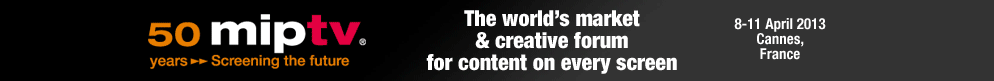
Интервью
Рафаэль Акопов: Бремя лидера
Интервью с экс-президентом «ПрофМедиа» Рафаэлем Акоповым о системе господдержки российской киноотрасли
Накануне нового года российские кинематографисты получили в подарок очередную реформу системы финансирования отрасли. За день до ухода из «ПрофМедиа» (куда входит одна из компаний-лидеров «Централ Партнершип» и крупнейшая киносеть страны «Синема Парк»), теперь уже бывший президент холдинга Рафаэль Акопов рассказал, была ли эффективной работа Фонда кино и почему даже миллиарды долларов не спасут российскую киноиндустрию.
КСЕНИЯ БОЛЕЦКАЯ: Последний раз систему господдержки кино кардинально меняли три года назад. Вы как член правительственного Совета по кинематографии присутствовали при ее зарождении. Получилось ли задуманное тогда? Есть ли результат?
РАФАЭЛЬ АКОПОВ: Тогда реформа назрела. Бессмысленный подход «всем сестрам по серьгам» оброс всякими неприятными подробностями, о которых ходили слухи.
К.Б.: Вы имеете в виду взятки в обмен на субсидию? Владимир Путин на заседании Совета говорил именно об этом.
Р.А.: Не помню. Путин, вероятно, знает больше меня. У нас никто ничего не просил, и про посадки я тоже не слышал. Были мутные слухи, и был факт – проверка Счетной палатой работы Минкульта, которая установила, что отчетность по проектам, на которые получены бюджетные деньги, сдавали единицы кинокомпаний. Большинство не отчитались, как они потратили эти средства. Плоды той системы, когда всем распределяли понемножку и задаром, мы пожинаем и сейчас. Большое количество трэша подорвало доверие зрителей к российскому кино. Система была неэффективна. Поэтому министерство, чиновников вывели из игры на тот момент и поручили распределение бюджетных денег фонду.
К.Б.: Фонд же тоже государственный?
Р.А.: Но возглавляет его не госчиновник, у фонда есть Попечительский совет и устав. К тому же государство не могло бы пойти на такие принципы финансирования, какие допустил фонд, когда начал поддерживать только крупнейших. Для государства такой ход не очень работает, оно изначально должно быть в нейтральной позиции по отношению ко всем компаниям. Хотя были жалобы, почему дали деньги только нескольким, ни у кого не было никаких разговоров и вопросов о том, как фонд распределяет деньги.
К.Б.: Критики той реформы часто говорят: о каком успехе фонда мы можем говорить, если доля русского кино за эти года упала еще больше?
Р.А.: Давайте не упрощать ситуацию. Российский кинематограф сейчас находится в кризисе. И недостаточная касса отечественных картин лишь верхушка айсберга. Креативная сторона кинобизнеса – сценаристы, режиссеры, продюсеры – утрачивают способность воспроизводить национальный культурный код. Как говорит Михалков, зритель перестал узнавать себя на экране. Так что денежный кризис в основе своей имеет творческое происхождение. А снижение доли началось в еще дофондовские времена. Хотя, конечно, форма господдержки, предложенная фондом, этого падения не остановила. Но опять же – фонд занимается распределением денег, а, как я уже сказал, падение кассы – это не денежная проблема в первую очередь.
К.Б.: Как же не денежная? Почему тогда продюсеры и чиновники от культуры так бьются за увеличение господдержки?
Р.А.: У нас проблема не с количеством денег, а с их качеством. Оказалось, что индустрия и люди, занятые в ней, зарабатывают не с доходов, а с убытков. Деньги фонда, а сегодня это фактически безвозмездная субсидия, превратились в способ финансировать убытки компаний, не слишком озабоченных зрительским потенциалом конкретного фильма. Хотя из десяти фильмов, вероятно, девять убыточны в прокате, я что-то не слышал о банкротстве кинокомпаний. При этом мы вроде ведем речь о коммерческом кино. Тогда уж давайте применим к нему коммерческие принципы. На рынке слишком много государственных халявных денег. Они искажают экономику кинопроцесса и делают российский кинематограф неконкурентным.
К.Б.: Как именно халявные деньги мешают кинопроцессу?
Р.А.: Давайте я приведу совершенно конкретный пример из реальной жизни, но без фамилий. Вот приходите вы к известному сценаристу, заказываете сценарий, вам объявляют гонорар. Получаете от сценариста продукт, а он не соответствует заявленной цели. Просите переработать. Сценарист его перерабатывает спустя рукава. Вы снова приходите, говорите «не пойдет» и просите переработать снова. Сценарист отвечает: парни, да у меня очередь стоит из желающих, и сценарий в его нынешнем виде купят без разговоров, так что вот вам деньги обратно, времени на вас нет, идите лесом. И так весь проект начинает страдать – у продюсеров ограниченный съемочный период, они думают, что закроют эти дыры в сценарии особыми режиссерскими приемами. Потом оказывается, что режиссер – не Спилберг, и одни дыры закрывают, зато открывают новые. Актер где-то вытягивает, а где-то нет. В итоге рождается слабый продукт с очень приличным производственным бюджетом. Зритель за такой кошельком не проголосует, в статье «доходы» у фильма стоит ноль.
К.Б.: То есть все возвращается к тому, что продюсеры и режиссеры перестали ориентироваться на зрителя?
Р.А.: А зачем им зритель? Действующая система всерьез ослабила значение зрителя как экономического фактора в кинобизнесе. Экономика – упрямая вещь. Вы делаете фильм, в процессе производства режиссеры, продюсеры, актеры, их компании обеспечили себе доходы. Теперь вам надо его прокатать. А вы понимаете, что вы уже заработали. Если выйдете в широкий прокат, то, может, заработаете что-то еще, а может, и потеряете. Многим людям, занятым в производстве, коммерческий успех фильма не принципиален, скажем так. От продюсеров часто можно услышать: дорогие чиновники, пришлите мне денег и ни о чем не спрашивайте. Но так не получится, извините. Если ты берешь безвозвратные деньги и не даешь качественный продукт, то надо принять на себя ответственность перед теми, у кого ты их взял. А то и субсидий дайте и не спрашивайте с меня за «шедевры». Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
К.Б.: То есть если дать больше денег, сам подход к их освоению волшебным образом не изменится?
Р.А.: Именно. Более того, мое глубочайшее убеждение, что если завтра скажут: давайте инвестируем не 4 млрд рублей, а 4 млрд долларов, толку не будет. Для освоения этих денег в стране нет инфраструктуры, знаний, кадров, нет современных анимационных студий, нет специалистов, способных создавать кино голливудского уровня, мало кинотеатров, не приняты комплишн-бонды и т.д. Сама среда не готова к таким инвестициям. Если, конечно, задача киноиндустрии – дать продукт, а не «освоить» госденьги.
К.Б.: Как же тогда поменяется система господдержки на этот раз?
Р.А.: Во-первых, будет оптимизирована система госуправления. Ничего хорошего в том, что функции фонда существенно пересекаются с функциями министерства, нет. Среди таких пересечений международная деятельность, поддержка фестивального движения и т.д. Во-вторых, если фонд и дальше просто будет распределять деньги, то смысла в нем нет. Приходит понимание, что у успешности кино более сложные критерии, чем просто касса. Потому что есть Сокуров и Герман, а есть «Бой с тенью» и «Духless». Надо понять, что мы хотим получить: то ли произведение искусства, то ли кассу, а может, и то и другое. Поэтому предлагается разделить сферы ответственности: епархия фонда – это коммерческое кино, министерства – все остальное: авторское, фестивальное, дебютное и т.д. Предполагается, что для коммерческого кино деньги будут выделяться на возвратной основе. Это принципиально. Могут использоваться и иные экономические инструменты, такие как субсидирование процентных ставок для коммерческих кредитов. Подсластят нам пилюлю возможностью получать деньги не только в фонде, но и в министерстве.
К.Б.: С чем еще в этой новой системе предстоит определиться?
Р.А.: С тем, что такое займы фонда и как их давать. Я, кстати, не считаю, что принятые решения – на века. Надо посмотреть, что произойдет, когда начнется использование предложенных инструментов: как изменится касса, количество фильмов, пойдут ли зрители. И политики должны более четко решить, что им надо. Есть ли вообще прямая зависимость между долей российского кино в бокс-офисе и суммой выделяемых через фонд средств. Не факт, кстати. Подводных камней множество. Это ошибка – ориентироваться сугубо на бокс-офис. Прежде всего потому, что экономика кино выходит за рамки проката. Есть же картины, которые плохо прокатываются, но их с удовольствием покупают телеканалы за приличные деньги. И на ТВ они собирают большую аудиторию. Так что в будущем следует подумать о включении телепродаж в показатели успешности.
К.Б.: Вы говорите: коммерческое кино отделят от некоммерческого? А что для вас коммерческое кино?
Р.А.: Это как радуга, где переход между цветами крайне расплывчат. Но скажем так: фильм, который делается прежде всего как бизнес, это коммерческое кино, и наоборот. Вы же не ожидаете, что сокуровское кино снимается для прибыли? Априори не ожидаете. Коммерческое кино – это все, что выпускается в прокат на 200 копиях и больше, то есть это картины, ориентированные на массового зрителя. Хотя всегда найдутся фильмы, которые невозможно отнести в ту или иную категорию. К примеру, «Брат» Балабанова. Один из лучших примеров добротного художественного уровня и коммерческого успеха. Кстати, есть много мифов о фильмах для массового зрителя. К примеру, считается, что мы как зрители любим фильмы о Великой Отечественной войне. В России действительно невозможно не снимать такие фильмы, но… да, это любимая тема при обсуждении вероятного госзаказа. Очевидно. Но зрители на эти фильмы в кинотеатры не ходят. А сериалы военные по телевизору смотрят с удовольствием. Это разная аудитория, скажете вы, – зрители ТВ и те, кто ходит в кинотеатры. Не всегда. Но в кинотеатры идет в основном поколение «Трансформеров» и «Универа», и мы пока не научились снимать про войну так, чтобы им было интересно и важно.
К.Б.: Если убрать халявные деньги и применять жесткий коммерческий подход, ситуация на рынке выправится?
Р.А.: Нет, это необходимо, но недостаточно. Реформа уйдет в песок, если не принять широкую программу мер. В индустрии должна поменяться среда. Меры по фонду – это, конечно, хорошо, но это не подменяет всего того, что должно измениться в российском кино. Прежде всего – ситуация с кадрами. Она у нас плачевная.
К.Б.: Как ее исправлять?
Р.А.: Киношники, которых готовит система, должны получать тот самый культурный код. Он предается из поколения в поколение, подвергается метаморфозам, его нельзя описать в методичках. Эта сфера – на стыке подсознания, интуиции, культуры и педагогики. Мне кажется, она у нас сломалась. Поэтому российское коммерческое кино должно найти свое лицо. Этот процесс надо стимулировать.
К.Б.: Как стимулировать?
Р.А.: Восстанавливать ВГИК, развивать другие школы, изучать успешный зарубежный опыт, стимулировать экспериментальное кино, дебюты и т.д. Это длинный процесс. России нужен серьезный музей кино, без него пропаганда киноискусства будет буксовать. Кстати, покупка архива Тарковского – это вдохновляющий шаг. Еще нужно обязательно поддерживать кинотеатры. На сегодня треть населения или больше не охвачена современным кинопоказом. Это те, кто живет в средних и мелких городах. Поэтому киносетям нужно помогать расширяться, идти в новые города, переходить на цифру.
К.Б.: Могут ли как-то качественно исправить ситуацию деньги частных инвесторов?
Р.А.: Могут. Но, как показывает наш опыт, инвестировать в отдельный фильм очень рискованно. И риски будут расти, по-моему. Менее рискованно инвестировать в пакеты, это диверсифицирует ваши риски. В кино есть «коверные» инвесторы – те, кто вкладывает деньги в надежде пройтись по красной ковровой дорожке. Есть люди, вкладывающие деньги в своих родственников и друзей. Встречаются, особенно на исторических фильмах, и «инвесторы-просветители». Это понятная эмоциональная ситуация. Но это не про бизнес. Индустрии нужна прозрачная здоровая среда, чтобы в ней серьезную роль могли играть деньги частных инвесторов.
К.Б.: Поделитесь своим опытом. Какая часть фильмов ЦПШ рентабельна?
Р.А.: Для бизнеса ЦПШ имеет смысл говорить о рентабельности не отдельного фильма, а проекта в целом – фильма и сериала, построенного на его основе, к примеру. Второе более выгодно финансово, но фильм позволяет привлечь хорошего режиссера, усиливает твои позиции как прокатчика и стимулирует продажи всей библиотеки. ЦПШ практически единственная компания полного цикла в стране, которая контролирует свою библиотеку и дистрибуцию. У большинства продюсеров ситуация другая: на момент начала производства права на фильм им уже фактически не принадлежат – телеправа он продал, на прокат кого-то подписал и так далее. Поэтому статистика ЦПШ для таких компаний не релевантна.
К.Б.: Когда затевали реформу, полагали, что независимые продюсеры тоже получат доступ к деньгам фонда за счет того, что будут приходить к лидерам с идеями и делать совместные проекты. Но в случае с ЦПШ таких проектов не случилось. Почему?
Р.А.: Нет случая ЦПШ. Мы, кстати, частенько размещаем заказы в производственных компаниях. Есть общая ситуация. У меня есть гипотеза, почему так происходит. Зачем делить деньги с кем-то, если можешь заработать их сам? Лучше отдать их внутреннему проекту. Кроме того, в больших компаниях объективно профессиональная экспертиза на более высоком уровне.
К.Б.: ЦПШ занимается не только производством кино, это один из крупнейших российских прокатчиков. Какая доля реально достижима отечественным кино в прокате?
Р.А.: Чиновники говорят о доле в 30% национальной кассы. Реальная цифра – это 20%, это хороший уровень. Все, что меньше, – красная зона. Пройдет много лет, пока цифра 30% станет реальностью. Но тут нужно понимать важную вещь, которую часто упускают из виду. Есть такое общее выражение: мы проиграли американцам. Но при этом забывается, что мы на наш рынок получаем тщательно отобранные блокбастеры категории «A», редко за каким из них стоит бюджет меньше $150 млн. Кстати, они тоже иногда проваливаются. Мы конкурируем с лучшим продуктом самой мощной мировой киноиндустрии, которая управляется по экономическим законам. Важное конкурентное преимущество мейджоров – это мировая дистрибуция продукта, позволяющая собирать миллиарды по всему миру и инвестировать их в продукт и дистрибуцию. А у нас фактически есть только наш российский рынок. Наше преимущество здесь – лучшее понимание культурного контекста, интимная эмоциональная связь зрителя с отечественным кинематографом. Есть ощущение, что эта связь утрачивается по причинам, о которых мы говорили. Голливуд же просто заполняет вакуум. И опять же, другое важное упущение. Мы раз за разом забываем, что именно Голливуд до сих пор был и остается крупнейшим инвестором в российское кино. Только подумайте – из $1 млрд «голливудского» бокс-офиса в России в этом году россиянам достанется около 80%. Получается, что это уже не «голливудские», а вполне наши – российские сборы.
К.Б.: Каким образом?
Р.А.: Все очень просто. Половину кассы оставили себе кинотеатры. Плюс мейджоры потратились на рекламу в российских медиа, заплатили российской компании за печать, доставку копий и прокат. На круг получается около 80% от собранных фильмов денег. Вот собрали американские мейджоры в этом году около миллиарда долларов, россияне из них получили около 800 млн – и только около 200 млн ушло мейджорам. Именно на деньги, заработанные сетями на американских блокбастерах, строятся новые кинотеатры, снимается кино и так далее. Так Голливуд финансирует российское кино, расширяя важный для себя рынок.
К.Б.: Почему вопрос о доле русского кино каждый раз вызывает так много споров и обсуждений среди продюсеров и кинокомпаний?
Р.А.: Потому что когда мы говорим о том, что «русская доля» падает, во внешнюю среду посылается сигнал паники. Для «ПрофМедиа» это важно. Оборот кинобизнеса холдинга в этом году – почти $400 млн. Это для российского кино, серьезная сумма. А когда политики и государственные администраторы начинают паниковать, им приходят в голову такие простые, брутальные и не очень тонкие решения. Они начинают ратовать за усиление вмешательства государства в этот сегмент, думают о контроле над дистрибуцией, о квотах для русского кино и так далее. Эти меры всего лишь имитируют решение проблемы, по-моему. К нам зритель перестает ходить, потому что на экране он не видит ни денег, ни идей, не узнает себя на экране. У продукта нет культурной связи со зрителем, а визуально наши фильмы проигрывают «Человеку-пауку». Зачем тратить деньги на билет? Киношники в этой ситуации объясняют чиновникам, публике, что современный российский зритель – это какие-то «неправильные пчелы», если по Винни-Пуху. На самом деле причина в том, что киноиндустрия, посаженная на халяву, утратила форму, сейчас она обслуживает себя, а не зрителя.
К.Б.: Вы почти как унтер-офицерская вдова, которая высекла сама себя.
Р.А.: Ситуация с безвозмездной господдержкой загнала кинобизнес в тупик. Сказками, что «круче российских киношников зверя нет», бизнесу не поможешь. Я не говорю про отдельную компанию, речь идет об индустрии. Мы, конечно, тоже часть пейзажа и вовлечены во всю цепочку. Но на нас лежит и ответственность за будущее. Для нас кино — это долгосрочная стратегия. Мы заинтересованы в здоровой конкурентной среде. Это нужно как самой индустрии для выживания и роста, так и нашим зрителям. Через 10 лет дети будут думать, что наш Дядя Степа – это Халк до отъезда в Америку. А тогда нам уже нечего будет делать в этом бизнесе.
РАФАЭЛЬ АКОПОВ
Родился 25 августа 1964 года в Тбилиси. В 1988-м окончил юридический факультет, а в 1991-м – аспирантуру МГУ. Кандидат юридических наук. В 1991–1995 – юрист нефтяной компании «Манойл». В 1996–1997 – юрист юридической фирмы Allen & Overy. В 1997–1999 – вице-президент по юридическим вопросам «Ренессанс Капитала». В 1999–2001 – управляющий директор группы «Спутник». В 2001 – первый заместитель гендиректора телекомпании НТВ, одновременно с 2001-го по 2003-й – член правления «Газпром-Медиа». В 2003–2004 – заместитель гендиректора «Интерроса». В 2004–2007 – гендиректор «ПрофМедиа». В 2007 – управляющий директор «КМ Инвест». В 2008–2011 – генеральный директор, президент «ПрофМедиа». В 2011 – председатель совета директоров «ПрофМедиа». В 2011–2012 – президент «ПрофМедиа».
Tweet Share on Facebook
Николай Лебедев: "Никогда не высчитывал конъюнктуры"
14.05.13 15:20Владимир Мединский: "Мы работаем, поверьте!"
13.05.13 16:00Vladimir Medinsky: "We are working, believe me"
23.04.13 01:00Александр Невский: "Уверен, что "Черная роза" окупится в прокате"
08.04.13 20:00Мэттью Уэйнер: "Все общество в кризисе - мне есть где развернуться"
08.04.13 15:20
